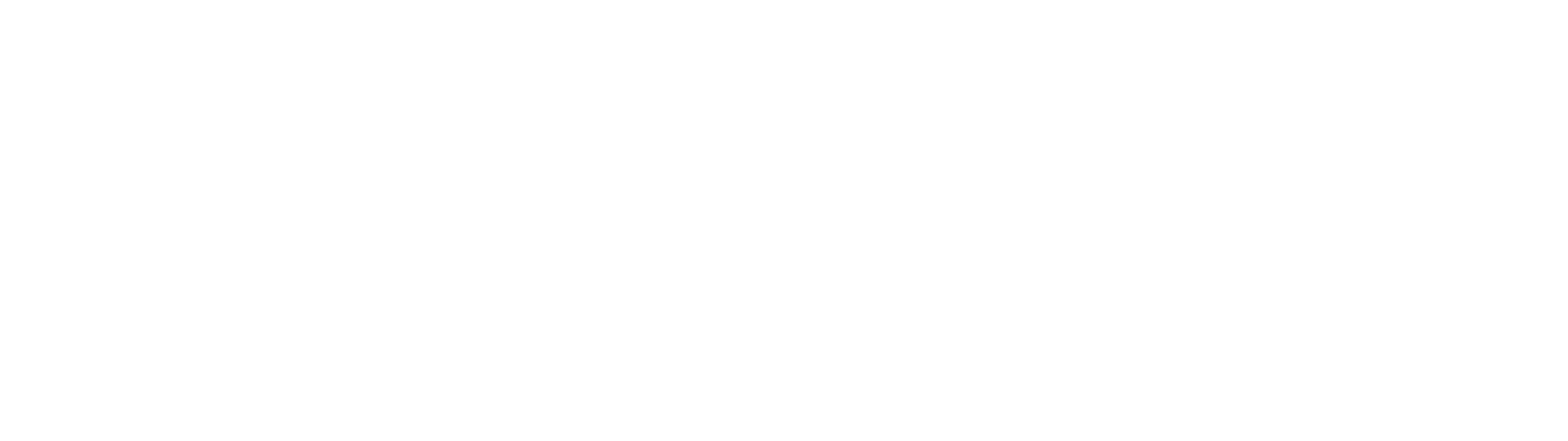
Станьте частью команды ЛИИ ЦИЦ
и создавайте будущее вместе с нами!
Что поведали путешественники за три столетия: увлекательные истории Дона (XVIII–XX вв.)
Путешественники XVIII–XX веков делятся увлекательными историями о жизни на Дону, включая встречи с иностранцами, использование половецких идолов в быту, контрасты между кочевыми калмыками и армянским городом Нахичевань, а также эпические события, такие как битва между стервятником и китайской гончей.
Француз и испанец в крепости Дмитрия Ростовского
В середине XVIII века на дальнем южном рубеже Российской империи, на берегу тихого Дона, выросла небольшая крепость Дмитрия Ростовского. Кого только судьба не заносила в эту пограничную твердыню! Путешественники рассказывают, что однажды здесь оказались два необычных гостя — француз по имени Андре и испанец Гонсалес. Двое иностранцев, волею случая очутившиеся среди донских казаков, сразу привлекли к себе внимание. Француз Андре, говорили, служил в крепости артиллеристом: он обучал местных пушкарей заморской науке, удивляя казаков своим изяществом и пылким нравом. А испанец Гонсалес, прибывший будто из легенд про конкистадоров, открыл при форте трактир. Его таверна быстро стала популярной — там подавали терпкое кахетинское вино и даже заморские пряности, привезённые по Волге купцами из Персии. Казалось невероятным услышать в степном гарнизоне звуки французской баллады или испанской гитары, но Андре и Гонсалес привнесли в суровый военный быт колорит дальних стран. Путешественники, посетившие Ростовскую крепость в те годы, дивились, встретив под стягом императрицы людей из западных королевств:
«На окраине русского юга, где степной ветер гуляет по валам, можно было услышать французскую речь и увидеть, как испанец учит казаков танцевать фанданго» – шутливо писал один из гостей крепости. Эти истории передавались из уст в уста, превращая Андре и Гонсалеса в почти мифических героев Ростовской крепости – символы того, как дальние миры пересеклись на берегу Дона в XVIII столетии.
«На окраине русского юга, где степной ветер гуляет по валам, можно было услышать французскую речь и увидеть, как испанец учит казаков танцевать фанданго» – шутливо писал один из гостей крепости. Эти истории передавались из уст в уста, превращая Андре и Гонсалеса в почти мифических героев Ростовской крепости – символы того, как дальние миры пересеклись на берегу Дона в XVIII столетии.
Половецкие бабы: вторая жизнь каменных идолов на Дону
Половецкая каменная “баба” — средневековый идол степей, нашедший неожиданное применение у донских казаков.
Столетиями донские ветры обдували древние каменные статуи — половецкие бабы, стоявшие на курганах бескрайних степей. Эти грозные фигуры, высеченные средневековыми кочевниками-половцами, пережили и нашествия монголов, и забвение времени. Но в XIX веке путешественники с удивлением отмечали, что многие из этих древних «идолов степи» обрели новую, совсем прозаичную жизнь среди донских обывателей. Каменные бабы давно утратили сакральное значение, и практичные казаки приспособили их под хозяйственные нужды. Один английский историк, путешествовавший по Дону, записал, что видел каменную статую, служившую… опорой для крыльца деревенской избы! Другой свидетель описывал, как статую без лица использовали в качестве жернова для дробления зерна – прочный песчаник оказался отличным материалом. В Черкасске и станицах можно было встретить половецких баб, наполовину врытых в землю и держащих на себе корыта, или стоящих у колодцев как столбы для ворот. «Средневековая скульптура в необычной для себя роли,» – удивлялся путешественник, глядя, как мальчишки привязали коновязь к каменной женщине без рук. Тем не менее, даже в такой утилитарной роли древние изваяния придавали колорит казачьему быту. В их застывших силуэтах, украшавших дворы и базары, жил дух степной старины. Иные гости Дона чувствовали себя словно среди музея под открытым небом, где история буквально поддерживает современность – будь то крыльцо или колодезный журавль. Это яркое соседство веков поражало воображение и стало одной из легенд донского края.
Столетиями донские ветры обдували древние каменные статуи — половецкие бабы, стоявшие на курганах бескрайних степей. Эти грозные фигуры, высеченные средневековыми кочевниками-половцами, пережили и нашествия монголов, и забвение времени. Но в XIX веке путешественники с удивлением отмечали, что многие из этих древних «идолов степи» обрели новую, совсем прозаичную жизнь среди донских обывателей. Каменные бабы давно утратили сакральное значение, и практичные казаки приспособили их под хозяйственные нужды. Один английский историк, путешествовавший по Дону, записал, что видел каменную статую, служившую… опорой для крыльца деревенской избы! Другой свидетель описывал, как статую без лица использовали в качестве жернова для дробления зерна – прочный песчаник оказался отличным материалом. В Черкасске и станицах можно было встретить половецких баб, наполовину врытых в землю и держащих на себе корыта, или стоящих у колодцев как столбы для ворот. «Средневековая скульптура в необычной для себя роли,» – удивлялся путешественник, глядя, как мальчишки привязали коновязь к каменной женщине без рук. Тем не менее, даже в такой утилитарной роли древние изваяния придавали колорит казачьему быту. В их застывших силуэтах, украшавших дворы и базары, жил дух степной старины. Иные гости Дона чувствовали себя словно среди музея под открытым небом, где история буквально поддерживает современность – будь то крыльцо или колодезный журавль. Это яркое соседство веков поражало воображение и стало одной из легенд донского края.
Калмыцкие кочевья и предприимчивая Нахичевань
Конец XVIII – начало XIX века на Дону ознаменовались удивительным контрастом культур. С одной стороны – кочевья калмыков, экзотичные стоянки степных скитальцев, с другой – новый город Нахичевань-на-Дону, основанный переселенцами-армянами . Путешественники, прибывавшие в Ростовский уезд, рассказывали о картине, словно сошедшей со страниц восточных сказок. На равнине близ Ростова они видели калмыцкие улусы: круглые войлочные кибитки, возле которых пасутся табуны коней и верблюдов. Над кибитками в ветре трепещут разноцветные лоскутки – молитвенные флажки, а неподалёку клубятся вечерние костры, вокруг которых калмыки в длинных халатах поют протяжные степные песни. «Эти сцены напоминали мне библейские времена, – писал один французский географ, – кочевники, живущие как тысячу лет назад, среди бескрайней равнины».
Но стоило путешественнику перевести взгляд чуть дальше – и перед ним вставала совсем иная картина. На горизонте виднелись купола и крыши Нахичевани – предприимчивого армянского городка, главного конкурента тогда ещё небольшого Ростова . Нахичевань-на-Дону была основана в 1779 году армянскими переселенцами из Крыма и быстро разбогатела благодаря торговле. В отличие от военной крепости Ростова, Нахичевань была городом купцов и ремесленников. Путешественники оставили яркие зарисовки: аккуратные улочки, базары, где звучала армянская речь, лавки с пряностями, шёлками и ювелирными изделиями. «Ростовцы завидуют: пока их город ещё крепостной и сонный, Нахичевань кипит торговлей и делами,» – отмечал шотландский юрист Дональд Маккензи Уоллес в 1870-х. Он описывал здоровую конкуренцию между двумя городами: армяне Нахичевани славились предприимчивостью, трудолюбием (не зря на гербе города – улей и пчёлы), а ростовские купцы старались не отстать, перенимая их навыки.
Особенно живописно выглядело соседство оседлого города и кочевников. Один швейцарский путешественник, Шарль-Рене Пикте де Рошмон, наблюдал на рассвете такую сцену: караван калмыков с верблюдами подходит к стенам Нахичевани, навстречу им из городских ворот выходят армянские торговцы. Степняки привезли сушёное мясо, шкуры и табун лошадей, а горожане обменивали на них зерно, ткань и вина. «Это был как встречный поток двух эпох – кочевого средневековья и оседлого просвещённого торгового класса,» – писал Пикте. Такие контрасты делали Ростовский край непохожим ни на один другой уголок империи, и путевые заметки гостей Дона полны восхищения от этого многообразия.
Но стоило путешественнику перевести взгляд чуть дальше – и перед ним вставала совсем иная картина. На горизонте виднелись купола и крыши Нахичевани – предприимчивого армянского городка, главного конкурента тогда ещё небольшого Ростова . Нахичевань-на-Дону была основана в 1779 году армянскими переселенцами из Крыма и быстро разбогатела благодаря торговле. В отличие от военной крепости Ростова, Нахичевань была городом купцов и ремесленников. Путешественники оставили яркие зарисовки: аккуратные улочки, базары, где звучала армянская речь, лавки с пряностями, шёлками и ювелирными изделиями. «Ростовцы завидуют: пока их город ещё крепостной и сонный, Нахичевань кипит торговлей и делами,» – отмечал шотландский юрист Дональд Маккензи Уоллес в 1870-х. Он описывал здоровую конкуренцию между двумя городами: армяне Нахичевани славились предприимчивостью, трудолюбием (не зря на гербе города – улей и пчёлы), а ростовские купцы старались не отстать, перенимая их навыки.
Особенно живописно выглядело соседство оседлого города и кочевников. Один швейцарский путешественник, Шарль-Рене Пикте де Рошмон, наблюдал на рассвете такую сцену: караван калмыков с верблюдами подходит к стенам Нахичевани, навстречу им из городских ворот выходят армянские торговцы. Степняки привезли сушёное мясо, шкуры и табун лошадей, а горожане обменивали на них зерно, ткань и вина. «Это был как встречный поток двух эпох – кочевого средневековья и оседлого просвещённого торгового класса,» – писал Пикте. Такие контрасты делали Ростовский край непохожим ни на один другой уголок империи, и путевые заметки гостей Дона полны восхищения от этого многообразия.
Битва стервятника и китайской гончей (Черкасск, 1807 год)
Пожалуй, самая необычная байка, которую могли услышать посетители казачьей столицы Черкасска в начале XIX века, – рассказ о поединке между стервятником и китайской гончей. Эту историю в 1807 году с восторгом пересказывали на всех хуторах. Как гласит предание, у одного донского атамана жил диковинный пёс – длинноногая гончая редкой породы, привезённая аж из Китая. Пса берегли как сокровище. Однажды летним днём, когда гончая бегала по заливным лугам близ Черкасска, с небес камнем упал огромный стервятник (так на Дону называли степного грифона). Хищная птица, размах крыльев которой достигал двух метров, видимо, приняла небольшого рыжего пса за лёгкую добычу. Началась схватка, столь зрелищная, что её очевидцы запомнили каждый миг.
Казаки сбежались посмотреть: гончая, вопреки ожиданиям, не убежала, а ринулась в бой с пернатым гигантом. Птица с каркающим криком вцепилась когтями в спину собаки, пытаясь поднять её в воздух, но пёс извернулся и сомкнул свои челюсти на крыле стервятника. Перья взвились в воздухе, раздался яростный лай и хриплый визг. То пёс оказывался сверху, пытаясь схватить птицу за шею, то грифон взмывал на несколько метров, волоча за собой упрямого пса, и снова падал на землю. Зрелище было «не для слабонервных», отмечал один из свидетелей в письме к родственникам, – казалось, что схватились мифические чудовища степи. Наконец, израненный стервятник попытался отступить, распахнув крылья, но гончая, истекая кровью, не отпустила врага и броском повалила птицу наземь. Стервятник был повержен – пёс одержал верх, хотя и сам едва стоял на ногах.
Когда атаман узнал о случившемся, он велел вылечить своего храброго любимца и… чучело стервятника разместил в своей зале, как трофей. Путешественники, приезжавшие в Черкасск спустя годы, видели у атамана сушёные крылья гигантской птицы на стене и слушали сию захватывающую историю как одну из местных легенд. Этот «эпический поединок» 1807 года вошёл в фольклор: он символизировал дух донских степей, где даже природа устраивала свои бои не на жизнь, а на смерть.
Казаки сбежались посмотреть: гончая, вопреки ожиданиям, не убежала, а ринулась в бой с пернатым гигантом. Птица с каркающим криком вцепилась когтями в спину собаки, пытаясь поднять её в воздух, но пёс извернулся и сомкнул свои челюсти на крыле стервятника. Перья взвились в воздухе, раздался яростный лай и хриплый визг. То пёс оказывался сверху, пытаясь схватить птицу за шею, то грифон взмывал на несколько метров, волоча за собой упрямого пса, и снова падал на землю. Зрелище было «не для слабонервных», отмечал один из свидетелей в письме к родственникам, – казалось, что схватились мифические чудовища степи. Наконец, израненный стервятник попытался отступить, распахнув крылья, но гончая, истекая кровью, не отпустила врага и броском повалила птицу наземь. Стервятник был повержен – пёс одержал верх, хотя и сам едва стоял на ногах.
Когда атаман узнал о случившемся, он велел вылечить своего храброго любимца и… чучело стервятника разместил в своей зале, как трофей. Путешественники, приезжавшие в Черкасск спустя годы, видели у атамана сушёные крылья гигантской птицы на стене и слушали сию захватывающую историю как одну из местных легенд. Этот «эпический поединок» 1807 года вошёл в фольклор: он символизировал дух донских степей, где даже природа устраивала свои бои не на жизнь, а на смерть.
Ростов и Дмитриевская крепость в 1820 году: взгляд времён Пушкина
Когда молодой поэт Александр Сергеевич Пушкин отправился в своё легендарное южное путешествие в 1820 году, ему довелось проехать через земли Нижнего Дона. Историки спорят, заезжал ли он непосредственно в Ростов-на-Дону, но известно, что по пути на Кавказ Пушкин находился неподалёку от этих мест. Его современники описывали Ростов того времени как небольшой провинциальный городок, выросший из старой Дмитриевской крепости. Пушкин, с его живым любопытством к жизни окраин, наверняка отметил бы контрасты Ростова.
Город в 1820 году представлял собой любопытное сочетание военного поселения и торгового пристанища. В центре ещё виднелись земляные валы крепости Дмитрия Ростовского, поросшие бурьяном; на валу ржавели пушки, оставшиеся со времён войн с турками. У ворот крепости толпились подводы – крестьяне из окрестных слобод везли на базар пшеницу, арбузы, рыбу из Дона. Где-то брякала кузница, и разносился гортанный говор донских казаков вперемешку с армянской речью купцов из соседней Нахичевани. «Пестрый приграничный городок,» – так описывали Ростов иностранцы начала XIX века. Они отмечали, что вдоль главной улицы соседствуют мазанки и купеческие особнячки, а на базарной площади можно увидеть нарядных армянок в парчовых шароварах рядом с казачками в цветастых сарафанах.
Пушкин, будь у него время задержаться, мог бы встретить в Ростове и знакомых лиц: к примеру, здесь служил офицером кто-нибудь из декабристов, сосланных на Кавказ, или проездом находился по делам генерал. Воображение рисует картину: молодой Пушкин, остановившись на постоялом дворе у Темерника (притока Дона), вечером слушает рассказы бывалых людей. Ему рассказывают легенды о кладах Стеньки Разина на островах дельты Дона, показывают старую крепостную церковь, где солдаты в свободное время читают «Историю Пугачёва» (ещё не написанную Пушкиным!). Сам поэт позже отразил впечатления южного путешествия в своих строках – возможно, и образ тихого Дона с его раздольем тоже отозвался в его душе. Путешественники начала XIX века отмечали, что Ростов тогда был полон духа ожидания перемен: крепость отжила своё, впереди городу предстояло стать торговым центром, но пока он ещё дремал под сенью старых стен. Именно таким и застал его Пушкинский 1820-й год – рубеж старого и нового времени на берегу Дона.
Город в 1820 году представлял собой любопытное сочетание военного поселения и торгового пристанища. В центре ещё виднелись земляные валы крепости Дмитрия Ростовского, поросшие бурьяном; на валу ржавели пушки, оставшиеся со времён войн с турками. У ворот крепости толпились подводы – крестьяне из окрестных слобод везли на базар пшеницу, арбузы, рыбу из Дона. Где-то брякала кузница, и разносился гортанный говор донских казаков вперемешку с армянской речью купцов из соседней Нахичевани. «Пестрый приграничный городок,» – так описывали Ростов иностранцы начала XIX века. Они отмечали, что вдоль главной улицы соседствуют мазанки и купеческие особнячки, а на базарной площади можно увидеть нарядных армянок в парчовых шароварах рядом с казачками в цветастых сарафанах.
Пушкин, будь у него время задержаться, мог бы встретить в Ростове и знакомых лиц: к примеру, здесь служил офицером кто-нибудь из декабристов, сосланных на Кавказ, или проездом находился по делам генерал. Воображение рисует картину: молодой Пушкин, остановившись на постоялом дворе у Темерника (притока Дона), вечером слушает рассказы бывалых людей. Ему рассказывают легенды о кладах Стеньки Разина на островах дельты Дона, показывают старую крепостную церковь, где солдаты в свободное время читают «Историю Пугачёва» (ещё не написанную Пушкиным!). Сам поэт позже отразил впечатления южного путешествия в своих строках – возможно, и образ тихого Дона с его раздольем тоже отозвался в его душе. Путешественники начала XIX века отмечали, что Ростов тогда был полон духа ожидания перемен: крепость отжила своё, впереди городу предстояло стать торговым центром, но пока он ещё дремал под сенью старых стен. Именно таким и застал его Пушкинский 1820-й год – рубеж старого и нового времени на берегу Дона.
Навигация по Дону до портов и каналов: риски и находчивость
Река Дон – главная артерия здешнего края – до середины XX века текла свободно, не скованная каналами и без крупного порта в Ростове. Плавать по ней было делом непростым и во многом рискованным. Путешественники прошлых веков оставили множество заметок о навигации по Дону в допаровую эпоху. Донышние казаки издавна славились как умелые лоцманы: их струги и чайки бороздили реку еще со времён походов на Азов. Но для торговых судов Дон нёс немало препятствий. В жаркие летние месяцы вода мельчала, обнажая коварные мели.
Один английский авантюрист начала XIX века, Уильям Кокс, описывал своё путешествие на парусной лодке вверх по Дону: «Каждые несколько вёрст нашу посудину сажало на песчаную отмель, и тогда все пассажиры, включая дам, выходили в воду и толкали её обратно в русло,» – с улыбкой отмечал он. До строительства железных дорог река была единственной магистралью, и потому на Дону кипела жизнь: плоты гнали лес с верховьев, баржи везли зерно к Азову. В устье, у крепости Ростова, товары перегружали на морские суда, ведь прямого соединения с остальной речной сетью России не существовало. Известно, что ещё Пётр I мечтал соединить Дон с Волгой каналом и даже начинал работы под Черкасском, но тот канал так и остался незавершённым на века. Поэтому вплоть до XX столетия купцам приходилось перегружать товары на воловьи обозы и тащить их сушей до ближайшей пристани на Волге или железнодорожной станции.
Навигация без современных портов была делом медленным. Путешественница Эдна Дин Проктор из Америки в 1880-х годах вспоминала, как её небольшое судно стояло на якоре почти двое суток у станицы Раздорской, дожидаясь, пока пройдет грозовой фронт: «Дон разлился, течение стало бурным, и наш капитан, старый казак, предпочёл привязаться к дубу на берегу и рассказать нам за чайной чашкой десяток казачьих историй,» – писала она. Такие задержки были обычным делом. Но именно в этих трудностях и заключалась романтика. Донские лоцманы славились находчивостью: если судно не проходило по мелководью, они выгружали часть тюков на берег, перетаскивали лодку через перекат вручную, а потом вновь загружали — зрелище, поражавшее иностранцев. «У русских хватало терпения и на такое,» – удивлялся немецкий ботаник Карл Кох, плывший по Дону к Кавказу.
Лишь к концу XIX века, с основанием в Ростове полноценного речного порта и развитием пароходства, ситуация улучшилась. Но и тогда Дон оставался своенравен. До постройки Волго-Донского канала (открылся только в 1952 году) каждую весну и осень караваны барж с хлебом шли вниз по течению, пользуясь высоким водой, а летом часть пути грузы шли на лошадях. Эти детали навигации прошлых лет сегодня кажутся диковинными, но именно о них с восторгом и уважением писали путешественники, называя Дон «рекой труда и терпения».
Один английский авантюрист начала XIX века, Уильям Кокс, описывал своё путешествие на парусной лодке вверх по Дону: «Каждые несколько вёрст нашу посудину сажало на песчаную отмель, и тогда все пассажиры, включая дам, выходили в воду и толкали её обратно в русло,» – с улыбкой отмечал он. До строительства железных дорог река была единственной магистралью, и потому на Дону кипела жизнь: плоты гнали лес с верховьев, баржи везли зерно к Азову. В устье, у крепости Ростова, товары перегружали на морские суда, ведь прямого соединения с остальной речной сетью России не существовало. Известно, что ещё Пётр I мечтал соединить Дон с Волгой каналом и даже начинал работы под Черкасском, но тот канал так и остался незавершённым на века. Поэтому вплоть до XX столетия купцам приходилось перегружать товары на воловьи обозы и тащить их сушей до ближайшей пристани на Волге или железнодорожной станции.
Навигация без современных портов была делом медленным. Путешественница Эдна Дин Проктор из Америки в 1880-х годах вспоминала, как её небольшое судно стояло на якоре почти двое суток у станицы Раздорской, дожидаясь, пока пройдет грозовой фронт: «Дон разлился, течение стало бурным, и наш капитан, старый казак, предпочёл привязаться к дубу на берегу и рассказать нам за чайной чашкой десяток казачьих историй,» – писала она. Такие задержки были обычным делом. Но именно в этих трудностях и заключалась романтика. Донские лоцманы славились находчивостью: если судно не проходило по мелководью, они выгружали часть тюков на берег, перетаскивали лодку через перекат вручную, а потом вновь загружали — зрелище, поражавшее иностранцев. «У русских хватало терпения и на такое,» – удивлялся немецкий ботаник Карл Кох, плывший по Дону к Кавказу.
Лишь к концу XIX века, с основанием в Ростове полноценного речного порта и развитием пароходства, ситуация улучшилась. Но и тогда Дон оставался своенравен. До постройки Волго-Донского канала (открылся только в 1952 году) каждую весну и осень караваны барж с хлебом шли вниз по течению, пользуясь высоким водой, а летом часть пути грузы шли на лошадях. Эти детали навигации прошлых лет сегодня кажутся диковинными, но именно о них с восторгом и уважением писали путешественники, называя Дон «рекой труда и терпения».
Пароходные круизы по Дону: мелоны, крысы и красота пути
Во второй половине XIX века на Дон пришла эпоха пароходов. Появились первые колесные пароходы, курсирующие от Ростова вверх по течению — до станиц, до Царицына и даже до Москвы окольными путями через Волгу (после перевалки грузов). Но были и туристические круизы по Дону – особое развлечение для искателей экзотики рубежа веков. Сохранились отчеты и дневники пассажиров таких речных прогулок, полные юмора и живых деталей.
Отправление парохода из Ростова превращалось в целый ритуал. Писатель Стивен Грэхем, путешествовавший по Дону в начале XX века, вспоминал, как на пристани провожающие устраивали долгие прощания. Родственники обнимались и крестились так долго, что капитан несколько раз давал гудок, торопя расстающихся. «Долгие проводы – лишние слёзы,» шутили на борту, глядя, как на причале плачут бабы, махая платками.
Наконец пароход отчаливал, колесные лопасти взбивали мутную донскую воду, и впереди расстилалась ширь реки. Быт на борту был простой, но колоритный. Пассажиры, особенно казачьи семьи, везли с собой горы припасов. На верхней палубе вечерами закатывали пиры с арбузами и дынями. Наутро палубу устилали корки да кожура — «горы кожуры от дынь на палубах», как образно заметил один российский мемуарист. Команда лениво сметала их за борт, а вокруг тут же кружили стаи чаек, прилетевших полакомиться бахчевыми остатками.
Конечно, не обходилось и без неудобств. Американский путешественник Томас Стивенс, совершавший путь через Россию, жаловался на вездесущих корабельных крыс. «Просыпаешься ночью – а по каюте шуршат маленькие разбойники,» – писал он с долей юмора. Некоторые дамы пугались и ночевали на палубе, завернувшись в плед, лишь бы подальше от крыс. Но казачки только посмеивались: мол, «это ж речные жильцы, без них никак».
Зато какие рассветы и закаты открывались путникам на Дону! Под мирный стук машины и плеск воды пассажиры встречали зори. Утром туман стлался над водой молоком, над камышами выпрыгивали рыбины, и где-то слышался далекий крик журавлей. А вечером небо полыхало малиново-золотым, и силуэты станиц на берегу отражались в зеркале реки. Англичанин Генри Уиттингтон отмечал, что нигде не видел таких величавых закатов, как над Доном: «Река будто несёт солнце на своих волнах за горизонт». Иногда пароход садился на мель – тогда волей-неволей любовались закатом дольше обычного, пока судно снимали с отмели. Но никто не роптал: лишний час среди этой красоты воспринимался как дар. На мели порой сходили на берег и устраивали импровизированные пикники, пели песни под гармонь. Закаленные казаки-попутчики учили иностранцев плясать или рассказывали байки про речных русалок.
Такие круизы оставили в памяти современников смесь комичного и восхитительного. В их описаниях – живая картина: старый колесный пароход пыхтит против течения, трубы дымят, на носу вполголоса поет казак, глядя на зарю, в кают-компании спорят картежники, с берега машут ребятишки… Эта эпоха ушла, но благодаря заметкам путешественников мы и сегодня можем представить себе неспешное очарование путешествия по Дону в конце XIX – начале XX века.
Отправление парохода из Ростова превращалось в целый ритуал. Писатель Стивен Грэхем, путешествовавший по Дону в начале XX века, вспоминал, как на пристани провожающие устраивали долгие прощания. Родственники обнимались и крестились так долго, что капитан несколько раз давал гудок, торопя расстающихся. «Долгие проводы – лишние слёзы,» шутили на борту, глядя, как на причале плачут бабы, махая платками.
Наконец пароход отчаливал, колесные лопасти взбивали мутную донскую воду, и впереди расстилалась ширь реки. Быт на борту был простой, но колоритный. Пассажиры, особенно казачьи семьи, везли с собой горы припасов. На верхней палубе вечерами закатывали пиры с арбузами и дынями. Наутро палубу устилали корки да кожура — «горы кожуры от дынь на палубах», как образно заметил один российский мемуарист. Команда лениво сметала их за борт, а вокруг тут же кружили стаи чаек, прилетевших полакомиться бахчевыми остатками.
Конечно, не обходилось и без неудобств. Американский путешественник Томас Стивенс, совершавший путь через Россию, жаловался на вездесущих корабельных крыс. «Просыпаешься ночью – а по каюте шуршат маленькие разбойники,» – писал он с долей юмора. Некоторые дамы пугались и ночевали на палубе, завернувшись в плед, лишь бы подальше от крыс. Но казачки только посмеивались: мол, «это ж речные жильцы, без них никак».
Зато какие рассветы и закаты открывались путникам на Дону! Под мирный стук машины и плеск воды пассажиры встречали зори. Утром туман стлался над водой молоком, над камышами выпрыгивали рыбины, и где-то слышался далекий крик журавлей. А вечером небо полыхало малиново-золотым, и силуэты станиц на берегу отражались в зеркале реки. Англичанин Генри Уиттингтон отмечал, что нигде не видел таких величавых закатов, как над Доном: «Река будто несёт солнце на своих волнах за горизонт». Иногда пароход садился на мель – тогда волей-неволей любовались закатом дольше обычного, пока судно снимали с отмели. Но никто не роптал: лишний час среди этой красоты воспринимался как дар. На мели порой сходили на берег и устраивали импровизированные пикники, пели песни под гармонь. Закаленные казаки-попутчики учили иностранцев плясать или рассказывали байки про речных русалок.
Такие круизы оставили в памяти современников смесь комичного и восхитительного. В их описаниях – живая картина: старый колесный пароход пыхтит против течения, трубы дымят, на носу вполголоса поет казак, глядя на зарю, в кают-компании спорят картежники, с берега машут ребятишки… Эта эпоха ушла, но благодаря заметкам путешественников мы и сегодня можем представить себе неспешное очарование путешествия по Дону в конце XIX – начале XX века.
Карантины и виселицы: страшные меры против эпидемий в XIX веке
В дореволюционной России слово «карантин» наводило ужас не меньше, чем сама болезнь. Донской регион, лежавший на пересечении торговых путей, часто оказывался под ударом чумы и холеры, которые заносились из дальних краев. Путешественники тех лет описывали жесткие карантинные меры, принимаемые властями, и некоторые детали поистине леденят кровь.
Представьте: холера или чума вспыхнула в соседнем регионе. Немедленно вокруг Области Войска Донского выставляют кордоны — пикеты казаков, перекрывающие дороги. На основных трактах строят карантинные заставы – что-то вроде лагерей, окружённых ровом.
Все приезжающие из подозрительных мест обязаны остановиться и провести там от двух до четырёх недель, «пока опасность не минует», – писали очевидцы. У застав – дезинфекционные баррикады: тюки с товарами развязывают и окуривают серой, путников моют в бане с уксусом. Путевые заметки упоминают, что на границе Ростовского уезда в 1830-е висели таблички на нескольких языках: «Стой! Карантин. Проезда нет».
Однако не все подчинялись. Купцы пытались тайком объехать кордоны, чумачьи обозы искали броды в стороне. Тогда власти шли на крайние меры. Недаром в народе ходила поговорка: «Карантин — для нарушителей плаха». Историк Евгений Марков отмечал, что во время эпидемии 1878 года, когда в Ростове свирепствовала чума, по окраинам города выставили виселицы — показательно, для устрашения . Считалось, что это отобьёт охоту у отчаянных нарушителей рваться через оцепление. Путешественник Дональд Уоллес писал, что, прибыв летом того года в станцию возле Ростова, издалека увидел жуткий силуэт: виселица на холме и рядом казачий разъезд. Ему объяснили: «Для тех, кто вздумает пробраться без карантина – вот его участь». Трудно представить, но такие были реалии борьбы с заразу. Иногда наказание действительно приводилось в исполнение: известен случай, как пару контрабандистов, перевозивших товары из заражённого села, поймали и повесили прямо у карантинной линии – об этом с ужасом писали газеты того времени.
Для честных же путников карантин был испытанием скорее моральным. Англиканский священник Реджинальд Хебер, путешествуя через Дон в начале XIX века, застрял на карантине и оставил любопытные заметки. Его держали 14 дней в чистом поле, в огороженном лагере, вместе с десятками таких же бедолаг. «Мы жили как на маленьком острове посреди степи, вокруг – стража с ружьями, шагу за пределы не ступить. Каждый день нас обливают уксусом и обжигают хлорной известью наши дорожные сундуки,» – жаловался он, хотя понимал необходимость мер. От скуки люди заводили дружбу, рассказывали истории. Хебер описал, как слушал былины от донского казака, тоже сидевшего на карантине после поездки в Крым. В иной раз карантинные меры вызывали бунты: в эпидемию холеры крестьяне под Ростовом взбунтовались, решив, что «начальство их морит нарочно», и пришлось усмирять восставших войсками.
Тем не менее, строгие карантины зачастую спасали тысячи жизней. Путешественники, хоть и роптали на лишения, в итоге признавали, что без этого нельзя. «Виселицы у карантинов больше пугали, чем действовали, но сам их вид остужал горячие головы,» – писал один французский врач, побывавший здесь во время эпидемии. Эти мрачные атрибуты эпохи – карантинные кордоны и виселицы – остались на старых гравюрах и в воспоминаниях, напоминая, какой ценой порой удавалось сдерживать смертоносные болезни до появления современной медицины.
Представьте: холера или чума вспыхнула в соседнем регионе. Немедленно вокруг Области Войска Донского выставляют кордоны — пикеты казаков, перекрывающие дороги. На основных трактах строят карантинные заставы – что-то вроде лагерей, окружённых ровом.
Все приезжающие из подозрительных мест обязаны остановиться и провести там от двух до четырёх недель, «пока опасность не минует», – писали очевидцы. У застав – дезинфекционные баррикады: тюки с товарами развязывают и окуривают серой, путников моют в бане с уксусом. Путевые заметки упоминают, что на границе Ростовского уезда в 1830-е висели таблички на нескольких языках: «Стой! Карантин. Проезда нет».
Однако не все подчинялись. Купцы пытались тайком объехать кордоны, чумачьи обозы искали броды в стороне. Тогда власти шли на крайние меры. Недаром в народе ходила поговорка: «Карантин — для нарушителей плаха». Историк Евгений Марков отмечал, что во время эпидемии 1878 года, когда в Ростове свирепствовала чума, по окраинам города выставили виселицы — показательно, для устрашения . Считалось, что это отобьёт охоту у отчаянных нарушителей рваться через оцепление. Путешественник Дональд Уоллес писал, что, прибыв летом того года в станцию возле Ростова, издалека увидел жуткий силуэт: виселица на холме и рядом казачий разъезд. Ему объяснили: «Для тех, кто вздумает пробраться без карантина – вот его участь». Трудно представить, но такие были реалии борьбы с заразу. Иногда наказание действительно приводилось в исполнение: известен случай, как пару контрабандистов, перевозивших товары из заражённого села, поймали и повесили прямо у карантинной линии – об этом с ужасом писали газеты того времени.
Для честных же путников карантин был испытанием скорее моральным. Англиканский священник Реджинальд Хебер, путешествуя через Дон в начале XIX века, застрял на карантине и оставил любопытные заметки. Его держали 14 дней в чистом поле, в огороженном лагере, вместе с десятками таких же бедолаг. «Мы жили как на маленьком острове посреди степи, вокруг – стража с ружьями, шагу за пределы не ступить. Каждый день нас обливают уксусом и обжигают хлорной известью наши дорожные сундуки,» – жаловался он, хотя понимал необходимость мер. От скуки люди заводили дружбу, рассказывали истории. Хебер описал, как слушал былины от донского казака, тоже сидевшего на карантине после поездки в Крым. В иной раз карантинные меры вызывали бунты: в эпидемию холеры крестьяне под Ростовом взбунтовались, решив, что «начальство их морит нарочно», и пришлось усмирять восставших войсками.
Тем не менее, строгие карантины зачастую спасали тысячи жизней. Путешественники, хоть и роптали на лишения, в итоге признавали, что без этого нельзя. «Виселицы у карантинов больше пугали, чем действовали, но сам их вид остужал горячие головы,» – писал один французский врач, побывавший здесь во время эпидемии. Эти мрачные атрибуты эпохи – карантинные кордоны и виселицы – остались на старых гравюрах и в воспоминаниях, напоминая, какой ценой порой удавалось сдерживать смертоносные болезни до появления современной медицины.
Эхо веков на берегах Тихого Дона
За три столетия – с XVIII по XX век – берега Дона повидали бесчисленное множество путешественников: ученых и авантюристов, поэтов и военных, дипломатов и искателей экзотики. Каждый из них оставил в своих записках по крупице той мозаики, из которой складывается живая история Ростовского края. Благодаря их любопытству и наблюдательности мы сегодня узнаём, чем занимались француз Андре и испанец Гонсалес в степной крепости, как древние половецкие бабы служили казачьему быту, какими предстают в воспоминаниях кочевые калмыки и трудолюбивая армянская Нахичевань. Мы словно лично присутствуем при схватке стервятника и гончей на черкасской земле, прогуливаемся с юным Пушкиным по пыльным улочкам старого Ростова, плывём на раскачивающемся пароходе мимо донских станиц и замираем перед суровой виселицей карантинного поста.
Все эти истории наполнены дыханием времени. Они делают прошлое зримым и осязаемым: вот ветер шелестит ковылём у древней статуи-бабы, вот пахнет дымом костров калмыцкое стойбище, вот скрипят настилы парохода под ногами, а где-то вдали раздаётся казачий крик «Любо!». Дон гармонично впитал в себя столько культур и судеб, что его летопись богаче любого романа. И путешественники прежних веков стали её летописцами – иногда невольными, но столь ценными. Их яркие зарисовки и впечатления легли в основу занимательной истории Ростова-на-Дону, которая увлекает нас и сегодня, позволяя заглянуть в прошедшие эпохи и ощутить неповторимую атмосферу времени на берегах Тихого Дона.
Все эти истории наполнены дыханием времени. Они делают прошлое зримым и осязаемым: вот ветер шелестит ковылём у древней статуи-бабы, вот пахнет дымом костров калмыцкое стойбище, вот скрипят настилы парохода под ногами, а где-то вдали раздаётся казачий крик «Любо!». Дон гармонично впитал в себя столько культур и судеб, что его летопись богаче любого романа. И путешественники прежних веков стали её летописцами – иногда невольными, но столь ценными. Их яркие зарисовки и впечатления легли в основу занимательной истории Ростова-на-Дону, которая увлекает нас и сегодня, позволяя заглянуть в прошедшие эпохи и ощутить неповторимую атмосферу времени на берегах Тихого Дона.
